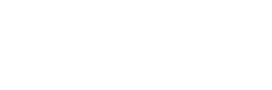Но наше одиночество вдвоём было внезапно нарушено. К столику подошла парочка, изрядно навеселе. Он представился журналистом, как выяснилось, знакомым Кули, она – музой знакомца. Примечательность этой парочки состояла в том, что он всё время говорил стихами, а она, преданно глядя на него, каждую его рифмованную фразу тут же записывала на салфетках. Мы поняли, что на этом празднике словоблудия нам нет места, и поспешили распрощаться.
На следующий день Куля привёл меня к Владимирскому собору. Мы долго сидели на скамейке перед входом в храм, не решаясь войти. В это время шла церковная служба, а посещение культовых отправлений в атеистической стране нам, комсомольцам, могла грозить неприятностями.
— Ладно,- сказал Куля, — Бог не выдаст…
И мы вошли. Великолепие, окружившее нас, невозможно выразить обыкновенными словами. Не знаю, может быть, кощунствую, но все святые, изображённые на настенных росписях, казались очень живыми, в этих образах не было никакой статики, отстранённости, каждый лик был психологичен. Над росписями собора работали Михаил Нестеров, Михаил Врубель, Николай Ге, Виктор Васнецов, — лучшие художники второй половины Х1Х века. Всё время считала, что самый пронзительный образ Богоматери был создан Рафаэлем в «Сикстинской Мадонне», но сейчас убеждена, что Богоматерь Васнецова стоит вровень с творением итальянского художника. Пусть русская Мадонна менее роскошна, более аскетична, но в ней больше жертвенности. В золотом полусвете, босыми ногами легко ступая по облакам, Она несёт навстречу миру своего Сына. И глаза Её полны печали и тревоги.
Мы переходили от одной росписи к другой, иногда перешёптывались. Народу в храме было мало, и своим передвижением мы никому не мешали. Но вдруг сзади нас раздался негромкий голос: «Господи, вразуми не верящих в Тебя!» Мы обернулись. Пожилая женщина смотрела на нас – нет, не осуждая, но с какой-то жалостью. — «Да верим мы, бабушка, верим», — так же тихо проговорил Куля, по-моему, сам от себя не ожидая такого признания…
А вечером я возвращалась в Алма-Ату.
— Так и не поговорили, — обижался Куля. – Осталась бы хоть на пару дней!
— Боюсь, что деканат не поймёт, у нас с пропусками строго.
Дорога в аэропорт уже не была столь восхитительной. Мы перебрасывались редкими фразами, подбадривали себя уверениями, что летом обязательно встретимся в Алма-Ате в нашей газете.
Но, кажется, оба чувствовали, что эта встреча – последняя.
Ещё лет десять шла наша переписка. А потом время и расстояние сделали своё дело. После университета Куля отслужил в армии, работал в Николаеве и Черкассах, потом вернулся в Киев. Знаю, что в начале перестройки он возглавлял республиканскую молодёжную газету. Вместо Кули появился Владимир Юрьевич Кулеба.
Сейчас, видя на телеэкране раскорёженный Крещатик, покрытые копотью стены административных зданий, глядя на лица участников майдана, более похожих на бомжей, чем на борцов за демократию, всё время задаю себе вопрос: по какую сторону баррикады нынче находится мой друг, письма которого храню и перечитываю! Не хочется думать, что он, будучи третьекурсником, написавший курсовую работу по творчеству Достоевского и получивший за неё обвинение от рецензента в «великоросском шовинизме», поддерживает тех, кто проходит по площадям «матери городов русских» с нацистскими лозунгами, кто заходится в ненавистническом раже, скандируя «москалякуна гиляку!»
(окончание следует)
Татьяна АЗОВСКАЯ