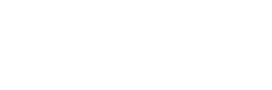(Продолжение.Начало в №№ 21, 22)
Самолёт приземлился в Борисполе ранним апрельским утром. Бурной я бы нашу встречу с Кулей не назвала. Молча обнялись и застыли с какой-то обречённостью.
— Батя велел передать тебе сразу же в аэропорту, — я протянула конверт, размером А4. В таких пакетах раньше каждая редакция получала фотоснимки из ТАССа, — открывай!
В первом конверте лежал другой, поменьше, в нём – ещё один и так далее, по принципу матрёшки. Самый последний, по счёту пятый, был уже самодельным, совсем крохотным. Распечатав его, Куля достал рубль, к которому была приклеена бумажная лента с надписью: «Сынок, думаю – потратишь с умом».
— Это – неконвертируемая валюта, — изрёк «сынок», — это – раритет.-
Подарок Сукачёва свёл на нет торжественность нашей встречи.
— Кстати, — отхохотавшись, сказал Куля, — ваша телеграмма чуть не разрушила нашу семью. Возвращаюсь после занятий домой и застаю маму в слезах. Я – ей: «Что случилось?» — Она — в ответ: «Вова, от папы пришла странная телеграмма». (Его отец работал в Республиканском Комитете народного контроля и часто бывал в командировках). «Он сообщает, что нашёлся и почему-то в Алма-Ате». — Долго пришлось объяснять ей, что к чему.
Первое, на что упал мой взгляд, когда наш автобус въехал в Дарницу, — это огромный рекламный щит с киноафишей: «Батько з примусу». Не дожидаясь моего вопроса, Куля перевёл: «Отец поневоле».
И – наконец – мы въезжаем на мост.
— Днепр! — восхищенно шепчу я. И уже громко, чуть ли не на весь автобус: — «Редкая птица долетит до середины Днепра»!..
Всякий раз, когда я слышу песню: «Под небом голубым есть город золотой», мне кажется, что это – о Киеве. Те два дня, которые я провела там, были переполнены солнцем. Ярко сверкала молодая зелень аллей и скверов, золотыми бликами переливалась днепровская рябь, сияли в небесной выси купола величественной Софии. И вообще весь город был каким-то уютным, домашним, радостным. Вполне возможно, что таким делало его присутствие друга.
— Давай сразу договоримся, что ты хочешь увидеть, потому что роль гида — «посмотрите направо, посмотрите налево» — для меня – утомительна, — говорит он. Называю: Крещатик, Владимирскую горку, Подол.
Но прежде чем оказаться на главной улице Киева, мы проходим по аллее какого-то сквера.
Внезапно Куля останавливается и шепчет: — Смотри, кто сидит! –
Прямо перед нами на скамейке в позе роденовского Мыслителя – молодой парень в белом спортивном костюме, рядом на земле тоже белая спортивная сумка с надписью «PUMA».
— А кто это? – так же шёпотом спрашиваю я.
— Это ж Бышовец! – восторженно выдыхает Куля. – Ты что, не знаешь, кто это такой?
На счастье, в невежестве меня не уличили. Папа был заядлым болельщиком, и имена Боброва, Яшина, Стрельцова, Нетто и, конечно, восходящей звезды киевского «Динамо» Анатолия Бышовца в нашем доме звучали постоянно.
На Крещатике Куля останавливает меня перед одним из перекрёстков.
— Вот, — говорит он, — это самое примечательное место. Здесь на углу Крещатика и Прорезной стоял когда-то великий слепой Паниковский. Более примечательных мест я не знаю…
Памятник князю Владимиру существовал как бы отдельно от города, воспарив над Днепром. Его огромность не принижала, принимала под свою сень. Но пафос моего восторга разрушил Куля.
— Знаешь, я тут как-то с однокурсниками поспорил, что заберусь по пьедесталу и поцелую Владимира в уста. (А пьедестал состоял их трёх ярусов).
— Ну, и как?
— До середины первого яруса долез, но тут появилась милиция, так что князь остался не целованным. Хорошо ещё, что меня в отделение не забрали…
Подол мне запомнился рабочим шумом. Здесь находился речной порт, шла загрузка барж, скрежетали подъёмники, заглушая голоса. Единственное, о чём я подумала тогда, так это то, что когда тут работал отец, в порту было тише.
За день мы побывали в университете, постояли около памятников Богдану Хмельницкому и Тарасу Шевченко.
Под вечер мой экскурсовод уже взмолился: — Может, хватит достопримечательностей. Давай хоть поговорим.
И мы разместились за столиком в летнем кафе под тенью цветущего каштана. Куля распрашивал об Алма-Ате, вспоминали нашу газету и понимали, что такой творческой свободы, которая существовала в «Ленинской смене на студенческой стройке» больше никогда уже не будет. (До сих пор помню материал Кули, заканчивающийся словами: «Я стоял на берегу озера, по которому плыла белая лебедь. Плыла просто так. Плыла потому, что ей плылось». Редактор посмеялся над этой фразой, но вычёркивать не стал. – Куля, — сказал тогда Рыжков, — это твой главный шедевр!)